
Глава седьмая ТЕСТ
ПЯТНА РОРШАХА
- Вы со мной лучше не ходите - замерзнете, - сказал Петя. - У меня сегодня участок очень грязный, неделю не убирали. Дворник заболел, меня и перевели сюда.
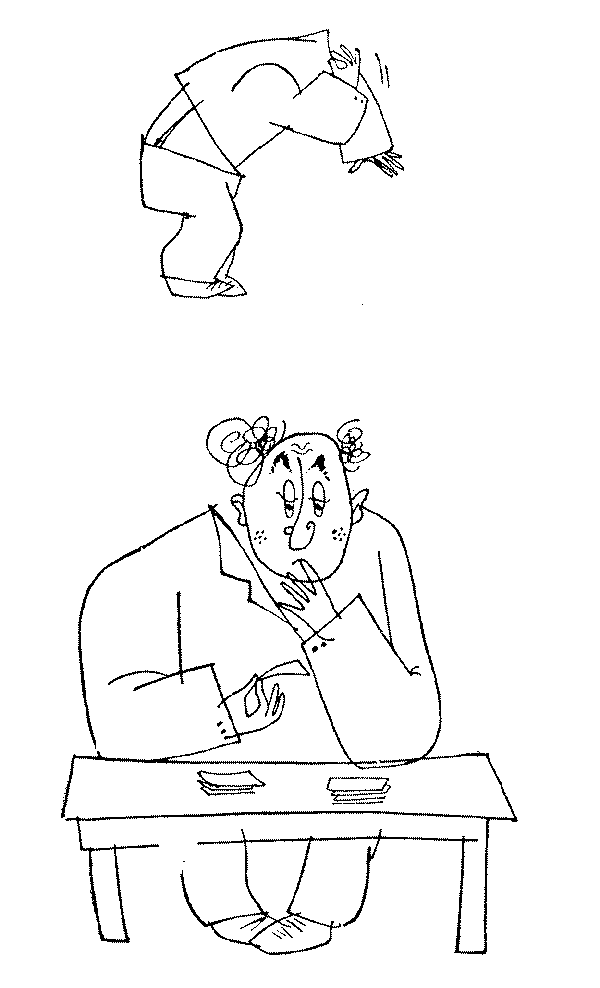
Тест
Петя в телогрейке, лыжной шапочке, в каких ходят опростившиеся математики, в очках, с элегантной русой бородкой. Метла его привязана к палке черным анархистским бантом: черным чулком, найденным на помойке.
Петя Карпов кончает психологический факультет Ленинградского университета. Жена его, тоже психолог, кончив университет, уехала в аспирантуру в. Пермь. Петя остался один, и где было жить - неизвестно. В общежитии не хотелось: несколько человек в комнате, а как же работать? Райжилотделы дают площадь только дворникам. Иногородний Петя пошел в дворники, получил комнату на Восьмой линии Васильевского острова и шестьдесят рублей зарплаты. Жизнь вышла независимая и полезная для здоровья, еще и жене можно помогать.
Петя прав, грязный у него двор, но зато улица чистая, совсем нет бумажек. Ветры с Ладоги дуют в феврале, они все уносят.
Петя метет. Я хожу следом: нелепая, должно быть, картина. Но хочется, хочется поговорить о Роршахе. А времени совсем мало. Петины очки, интеллигентская шапочка с ушками скоро привлекают внимание. Молоденькая пара на автобусной остановке, рядом с "нашим" участком, начинает шептаться:
- Гляди, гляди, какой дворник, - говорит она. - Хорошо смотрится, правда?
- Ничего хорошего. - Он подозрительно осматривает Петю с ног до головы. - Под студента работает, вот и все.
- А может, он правда студент!
- Ну да, студент на пятнадцать суток.
- Поверила я тебе! Их по одному не отпускают.
Они замолкают и зачарованно глядят, как метет Петя с тротуара предвесеннюю грязь. А я отхожу в сторону и пытаюсь увидеть Петю их глазами. Что в нем так раздражительно действует? Борода? Очки? Нет, скорей сам силуэт: слишком профессиональны и изысканно-точны его движения. Обыкновенный дворник не стал бы так работать. Это же его главная работа, впереди нескончаемые мостовые и нескончаемая человеческая неопрятность. Зачем торопить жизнь? А Петя метет так, словно его еще что-то ждет, по спине видно, что ждет.
Смотрю на Петину спину и вспоминаю разговор с психологом Ниной Альбертовной Розе. Она работает в лаборатории дифференциальной психологии. Занимается психомоторикой - движением. Так вот, Нина Альбертовна рассказывала, что труд на современном заводе так сложен, так точно отмерены и рассчитаны должны быть движения, что справиться с этой, казалось бы, чисто физической нагрузкой могут только люди с хорошим образованием, семь-восемь классов уже мало. Там, где требуется четкость, нужна полная средняя школа, десять классов.
Неожиданный факт: интеллект, как нечто побочное, нужен там, где, казалось бы, он вовсе не нужен. Проблема, которая недавно родилась, и в будущем, очевидно, обретет большую остроту.
С Петей сейчас происходит совсем наоборот: Петя слишком интеллигентно метет Восьмую линию Васильевского острова. Но до чего же доводит наука! Смотрю на Петю, а в голове ассоциации, корреляции, о которых мне рассказывали ленинградские психологи, и уже нет независимости восприятия - так каждый человек науки закован, связан своим способом отбора, конструирования окружающей среды.
В каждый приезд я попадаю в несколько Ленинградов, не пересекающихся друг с другом. В этот раз был у меня Ленинград искусствоведов с хождением в запасники, с разговорами о закупочных комиссиях, о новых поступлениях в Русском музее, о судьбе частных коллекций, о том, почему вошел в моду английский фаянс. И если заходила речь о кактусах, то выяснялось, что лучшие в городе кактусы цветут в Эрмитаже; и если говорили о кражах, то вспоминали кражу в Музее Пушкина на Мойке. На Ленинград на моих глазах натягивалась своя, искусствоведческая сетка важных и неважных событий, людей, всего - даже цветов.
С реставраторами был уже немного другой город. Для них дома, особняки, церкви, мостовые - это свое,
домашнее, как для нас старые вещи в родительской квартире. И большое удовольствие ходить по этой квартире.
Прекрасен Ленинград историков: "Вон три окна, да нет, на втором этаже, там, знаешь, кто жил?" И так на каждой улице. Историки не просто показывают "свой" город, они в нем, в этих трех окнах, живут. Реставрационные заботы об этих трех окнах не их печаль. Прошлое не прошло, что было, то есть, а что будет - это уж как будет. Отсюда и тональность разговора.
А друзья-литераторы спрашивали: "А у Блока, на островах, на Елагином, вы уже в этот приезд были? Нет? Ну как же так можно! Вы не смейтесь, но там появился белый конь. Представляете, кто-то держит среди города на островах ослепительно белого коня и рано утром, в тумане, скачет по улицам. Это не байка, многие уже видели, правда. Поезжайте, поглядите. Призрачно, нелепо, сплошная чертовщина..."
И живут в этом городе психологи, они видят во всем свое, как я сейчас в работящей Петиной спине. Есть социальные психологи, эти по привычке определяют везде, даже в ресторанах, кто есть кто. И почему мрачна официантка, какой лидер, метрдотель или повар, в этой малой группе, демократический или автократический.
Профессия хватает и держит крепко. "Белый конь на Елагином? Весьма любопытно, - скажет социальный психолог. - В экстравертированном мире тяга к интраверсии". И это будет маленькая часть того, в сущности, глубоко мистического и провиденциального для поклонника Блока факта, что спустя шестьдесят лет после знаменитых строк "две тени, слившись в поцелуе, летят у полости саней" на Елагином снова появил-ед Белый Конь.
...Не пересекаются эти города, хотя все они гуманитарные и, казалось бы, почти родственники. Все равно у каждой профессии свой город, а у каждого человека в этом общем для своего клана городе есть свой - город. А в этом своем есть еще микрогорода - разные куски жизни. Получается город-матрешка: внутри одной, главной, прячутся все остальные. Человек тоже матрешка. В каждом из нас...
Глядя на Петю, я попыталась подсчитать, сколько матрешек накопилось у него внутри за двадцать шесть лет жизни.
...Петя уже убрал двор. Оставалось совсем немного.
- А вы любите заглядывать в окна? - спросил Петя.
Вопрос сугубо профессиональный. Но в любом тесте, в знаменитом миннесотском опроснике, например, вопрос звучал бы иначе, утвердительно: "Вы, конечно, любите заглядывать в окна. Да или нет? Отложите карточку вправо или влево".
Отложила карточку вправо: "Да, я люблю заглядывать в окна".
- Когда бываете одна?
Это тест или уже не тест?
- Могу и одна.
- Понятно, - сказал Петя.
(Интересно, что ему понятно, мне, например, ничего не понятно.)
Петя кончил уборку, и мы пошли покупать греческий, так сказал Петя, обед: бутылку сухого вина, брынзу, черный хлеб. "Будем вкушать и разговаривать". Все купили, забыли только про сахар.
Петя снова уходит в ближайшую лавочку. Я разглядываю единственный портрет на стене - Роршах. Разлетающийся белый халат, усы, тяжеловатый подбородок ("Лихой был парень, правда?" - сказал про него Петя). Нет, я не согласна, это не лихость, такие лица, лица победителей, у многих крупных ученых начала века: они просто пришли из века девятнадцатого, они воспитанники прошлого, вполне оптимистически настроенного века, с его верой в позитивизм, в неуклонное, без всяких срывов движение прогресса.
Глядя на фотографию, можно представить себе, как стремительно ходил этот молодой человек по своей психиатрической клинике в маленьком швейцарском городке, как неспешно возвращался домой разрабатывать, улучшать свой тест. Как близким его, если он успел обзавестись семьей, вечерние занятия молодого психиатра казались, должно быть, странной забавой; двенадцать лет подряд капать на чистый лист бумаги чернила, складывать лист пополам, получать размытые изображения и потом проверять их, эти изображения, на больных. Или наоборот - проверять больных на этих изображениях. Больше десяти тысяч клякс сделал
он, прежде чем отобрать свои, ставшие теперь классическими, "таблицы Роршаха".
И вот теперь, спустя полвека, есть в Америке громадный Институт Роршаха, где собрано больше миллиона протоколов. Есть отработанные методики. По родам войск в США распределяют по Роршаху, по Роршаху принимают на работу все крупные фирмы.
Это дискуссионный вопрос - практика, практическое применение. Тем более что тест этот требует идеальной подготовки, величайшей добросовестности и полной освобожденности от личных пристрастий. В американских колледжах на психологических отделениях Роршаху учат гри года. Только Роршаху, работе с ним.
Но сам тест, так как он был задуман - для выявления структуры личности, - сам тест ни в чем не виноват и ничего не теряет от повсеместного и часто вульгарного его применения. Скорей даже наоборот: общеупотребительность его не знак ли заложенности чего-то очень конструктивного в простые, невнятные для строгого разума чернильные пятна.
...Петя, как фокусник колоду карт, достал таблицы, величиной со школьную тетрадь. Нет, немного меньше.
- Что это?
- Летучая мышь. В самом деле, тут были и крылья, и подобие головы. И все было симметрично.
- А это?
- Две женщины, нет, может быть, даже мужчины, или древние люди, дикари, что-то варят в очаге.
- А дальше?
Дальше были медвежата, и крабы, и бегущие куда-то не то коты, не то бобры, и мягкие голубоватые облачка, и бабочка-капустница, и готический собор, окруженный тучами, и два гномика в красных колпачках. А быть может, это были не колпачки, а духи, духи кровавых и беспощадных сказок вовсе не в стиле братьев Гримм, или просто рентгеновский снимок, тревожащий своими дымчатыми очертаниями?
Карты лежали на столе вперемежку с греческим обедом. Стол освещала настольная лампа, бутылка бросала на картинки причудливую тень. Наша трапеза, наш разговор походили на урок черной магии. Пятна втягивали в себя. Не отпускали. В нерезких границах их между черным и белым появлялись все новые видения. Не первый и не второй раз видела я эти таблицы даже во сне они снились: ветер, набегающие облака. Из облаков рождаются два лица (подплывают нос, губы, глаза - страшно!), строят друг другу рожицы, смеются, показывают розовые язычки - и вдруг, словно ветер схватил их за волосы, ветер судьбы, разлетаются в разные стороны. И снова огромный, космический простор неба, и снова все первозданно. И просыпаешься оттого, что не хватило воздуха, как на высокой горе. А это не гора - это знакомые кляксы Роршаха.
Но почему все-таки Роршах так популярен? Потому что в Роршахе можно проследить многие этапы общения человека с миром: что человек может взять от мира, с какой скоростью, как использует он свою память. Тесты такого типа называются "проективными". Человек привносит в них себя: свои воспоминания, свою профессию, свое душевное состояние. Роршах - тест уникальный. Он предоставляет человеку полную свободу. Это не ответы типа "да - нет" и не составление рассказов по сюжетным картинкам, как в популярном тесте "ТАТ": "допустим, мальчик сидит, грустно облокотившись на скрипку. Глядя на картинку, расскажите, что было, есть и будет с этим мальчиком".
Глядя на мальчика, вы не скажете, что это мамонт или ракета, вас ограничили сюжетом. Другое дело, что, строя свой рассказ, вы, сами того не подозревая, расскажете свою жизнь. Даже если попытаетесь придумать нечто шаблонно-литературное, в этом шаблоне будет ваш единственный в мире личный шаблон, детали и краски вашей жизни. И все-таки в рассказе будет присутствовать скрипка, мальчик, его грусть.

Шаблон вашей жизни
Роршах не связывает ничем. Он, как сказали бы кибернетики, задает беспорядочную информацию. Из этой информации вы создаете свои миры. Расшифровать эти миры дело экспериментатора.
В Роршахе есть несколько формул, по которым подсчитываются и интерпретируются ответы. Есть формул а "Движение - цвет". Движение в тесте - показатель интеллекта. В самом деле, нужно сначала заметить в пятне некую фигуру, наделить ее неким свойством, пустить это свойство в ход, увидеть его в реальности, существующим: "Птицы летят, роты идут, облака плывут". Люди с низким интеллектом, как установлено многочисленными исследованиями, вообще не видят в Роршахе движения.
А цвет? Цвет - барометр эмоционального настроения. Когда после черно-белых карточек иному испытуемому внезапно показывают цветную, вместо десяти секунд ему нужно двадцать, чтобы дать ответ. Двадцать секунд он не может найти образ. Но если человек видит в Роршахе только цвет, если цвет заслоняет все остальное, если человек мечется по цветовым пятнам, не в силах справиться с собой, - это свидетельство бьющей через край эмоциональности.
Самая резкая реакция в этом тесте бывает, конечно же, на цвет красный, хотя в подлинных картах Роршаха он нежен, розоват и нестрашен. Но... огонь, кровь. Огонь пожара, огонь выстрела, кровь - красный цвет действует чисто физиологически. Это пришло из далеких времен, это запрограммированная в нас генетически тревога.
Черный, серый, голубой, зеленый... Вот основные цвета, представленные в тесте, и тут стоит отметить, что Роршах первым ввел цвет как способ исследования человека.
формула "Движение - цвет" меряет, чего в человеке больше - интеллекта или эмоциональности. Счастливая гармония, как показывает опыт, встречается редко.
Важный показатель по Роршаху - форма пятна. Что человек видит, как он оценивает карту: всю сразу или фрагментами. Количество ответов по всему тесту показывает, что "ведет" в человеке: способность объять
целое, интеллект логический, разработанный, привыкший упорядочивать действительность, или хаос, беспорядок, жажда за что-нибудь ухватиться, лишь бы ухватиться.
А как важно, что именно видится в пятнах Роршаха! Как важен сюжет! Тут выясняется довольно странная вещь: казалось бы, человеку предоставляется полный простор - можно высмотреть в кляксах весь живой и предметный мир. Но мир этот, как показывают сотни тысяч экспериментов, умещается с небольшой натяжкой всего в несколько условных категорий, которые называют испытуемые при обследовании: животные, растения, человек, география, анатомия, рентген, огонь, архитектура... Странновато мы квантуем мир, не правда ли?
Сзмый частый, банальный ответ по Роршаху - звери. Звери, птицы, рыбы. Звери нейтральны. Их легко вообразить. "Количество животных", да пусть не рассмешит читателя эта формулировка, - показатель умственной энергии, активности ума. Если тест провести дважды в день - утром в вечером, вечером "звериных" ответов будет гораздо больше, на 20-30, чем утром: к вечеру человек устает, взлеты воображения, богатство ассоциаций - это труд. Вечером в ход идет то, что легче видится.
Анатомия, рентген, огонь, архитектура - каждый как самостоятельный признак, что же это такое? Вещи очень разные и вместе с тем похожие - огонь и рентген, анатомия и архитектура, если испытуемый видит это, значит, в нем заложены, как заряд в пушку, тревоги, беспокойства, эмоциональные беды. Только вот когда выстрелит пушка, если уже есть заряд? Роршах не прогнозирует, он констатирует: порох есть, и он сухой, и человек может взорваться. При полном душевном благополучии не увидит испытуемый рентген легких там, где проще увидеть бабочку или ту же летучую мышь. И не увидит он сердце, истекающее кровью. И не будут ему чудиться в каждой картинке окна, двери, рвы, крепостные валы, соборы.
Архитектура, архитектурные детали, так же как огонь, оказывается, далеко не безразличны для человеческого восприятия. Тяга к геометрии замкнутых пространств, жажда спрятаться, отъединиться от мира за призрачными рубцами роршаховских пятен...
Беспокойства, которые в обычной жизни человек носит с собой, вдруг прорываются, и там, где один безмятежно видит одуванчик, другой смятенно разглядит подавляющие контуры стальной конструкции.
...Что тут скрывать, внешне объяснения по Роршаху часто напоминают высокоинтеллектуальную игру, ведущую начало от идей раннего Фрейда. Да, это так. Но вот совсем недавний эксперимент французских психиатров.
Обследовались три группы людей - вернее, изучалась тема "Искусство и психика". Группа больных художников, группа больных нехудожников, группа
здоровых художников-профессионалов. Разбору подвергалось и творчество давно умерших мастеров: там были Гойя, Гоген, Ван-Гог и другие.
И вот что обнаружилось. Есть в их рисунках нечто
общее, объединяющее, есть общие для всех принципы выражения личности. Есть черты, объединяющие только профессионалов, больных и здоровых. И, наконец, есть то, что свойственно только "больному" искусству - как профессиональному, так и непрофессиональному.
Художники и нехудожники, больные шизофренией, обязательно ограничивают свои рисунки рамками, как бы отгораживают себя. Только отгородившись, они начинают рисовать. Они делят уже не просто на листе бумаги, а на "своем" пространстве лист на три-четыре горизонтальные полосы и заполняют их постепенно снизу доверху, причем вверху, как в искусстве древних, помещают главное, нечто грозное, того, от кого все зависит... Психика разбалтывается от болезни, спускается на нижние этажи, теряет навыки современного мышления.
И еще: у обеих групп - больных изображения на рисунках налезают друг на друга, как в творчестве детей. Море, небо, лодка... Лодка перекрывает все она выше неба. Потому что только в лодке спасение. Или тоже лодка. Крошечная. И в маленькой лодке - огромный человек.
При мании преследования в рисунках выделяются
прежде всего глаза, все наблюдают друг за другом, никто не поворачивается ни к кому спиной: это опасно, У маниакальных больных рисунок заполняет всю поверхность: лицо одного превращается в спину другого,
линия входит в линию. Психика работает судорожно, избыточно, чрезмерно.
И всю эту спутанность, завихренность мира четко отражает рисунок. Больше того, особенности рисунка способны подсказать диагноз. Очевидно, в будущем, когда разработают методику экспериментов, эти опыты станут основой чисто графического исследования личности.
Возвращаясь же к архитектурным сюжетам Роршаха, можно теперь с большей определенностью сказать, что архитектура появляется там, где человек жаждет воздвигнуть в себе внутренние крепости. И потому в любом пятне он отыщет забор, за которым можно укрыться.
...Форма, цвет, движение фигур, время, требующееся для ответа. С разных сторон проникает Роршах в человека. Подсчитывается число ответов, подставляется в формулы. Формулы сравниваются. Одна формула, одна тревожная цифра ничего не значат, как вполне незначаща одна крепость на всю серию ответов или один зловещий рентген. Только общая картина поможет оценить структуру личности, ее потенциальные, почти заглохшие возможности, ее нынешние неурядицы.
И тут, пожалуй, начинается самое узкое место теста: формализация самого метода, самого процесса тестирования, и довольно субъективная оценка его результатов. Строгого математического аппарата у Роршаха нет, и в этом главная его научная уязвимость. Он король тестов, но он одинок в своем величии; ему можно оказывать почести, но его трудно сопоставлять с итогами других исследований.
...Петя Карпов пытается формализовать свой "кусочек" Роршаха. Современная психология очень любит непонятные слова и новые термины. В Петиной работе тоже есть непонятное слово - "деклинация". Деклинация - мера увильчивости, отклонения от нормы, от закона статистического детерминизма. Известно, то есть высчитано, что деталь "А" люди видят чаще, чем "Б", а "Б", в свою очередь... Чтобы увильнуть от жестокого закона банальности в мышлении, нужно приложить некоторое психическое усилие. Карпов пытается приспособить непокорного Роршаха к главной точке отсчета в том эксперименте, который идет в Ленинградском университете уже несколько, лет: он меряет деклинацию до и после экзаменов. Как выяснилось, после экзаменов "увильчивость" возрастает. Встряска, стресс - и студент после экзамена более самостоятельно относится к пятнам. "Он меньше раб кляксы", как сказал Петя.
...Мы давно уже выпили бутылку вина и съели весь хлеб, и Петя давно уже отказался провести меня всерьез по Роршаху: первая же беглая пробежка по пятнам открыла, что перед ним человек зловредный, склонный видеть не то, что положено.
- Вам обязательно нужно заглянуть за зеркало, признайтесь?
- Это плохо?
- Это трудно. Вы что, сами разве не знаете?
Я знаю, что трудно, догадываюсь, что если это заложено, избавиться от тяги к деклинации почти безнадежно.
...Возле нашего дома в Москве есть детский сад. Каждый вечер видно, как укладываются спать дети, те, что на пятидневке; видно, как они прибирают игрушки, валандаются, дерутся, как в одних рубашечках убегают в туалет, чистенький, с маленькими унитазиками, и там, усевшись, ведут долгие разговоры. Вокруг уже темные окна, а туалет ярко освещен, и жизнь еще идет, в тепле, покое - минуты, заменяющие домашнюю уединенность.
По утрам, ровно в десять, сад отправляется гулять.
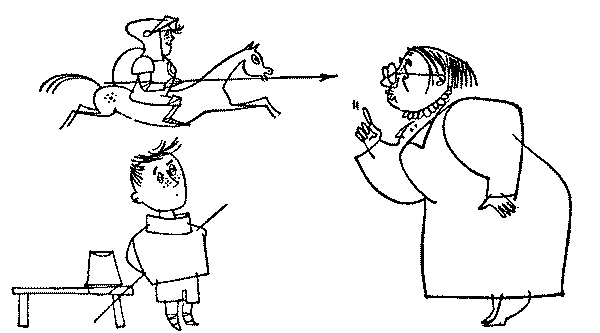
Детский сад
У каждой группы свой маршрут. Одна всегда проходит под нашими окнами. И молодой женский голос, то веселый, то раздраженный, чаще равнодушный, повторяет, в сущности, одну и ту же фразу с небольшими вариациями: "Колышкин, объясни нам, что ты увидел в небе", "Колышкин, ты опять стоишь как столб, возьми свою пару за руку".
Я подхожу к окну и смотрю: неровно, разноцветно выгибаясь, как обтянутые ситцем мехи детской гармоники, бредут по тротуару ребята. Застревают на каждом шагу, внезапно останавливаются все разом, чтобы разглядеть машину, и нет способа сдвинуть их с места. Я ищу Колышкина и не могу найти вот уже третий год. Сверху, с высоты, попробуй угадай!
Наверное, Колышкин скоро уйдет из нашего детского сада. Что с ним будет дальше? Будет ли он так же непоколебимо отстаивать свою независимость? Не знаю. Пока же я просто уважаю неизвестного мне Колышкина. Он ни разу, ни в одно утро не дрогнул, он учил мужеству быть самим собой; он продолжал смотреть невесть куда, разглядывать невесть что.
...Но при чем тут Колышкин? Ах да! Совсем неясно, как у него будут обстоять дела с деклинацией, когда он вырастет. Как узнаешь? Может быть, просто пойти в сад и взять адрес, а потом через двадцать лет явиться: "Здрасьте, как у вас с деклинацией, товарищ Колышкин?" И если он до того времени устоит, ему будет приятно, Колышкину.
- Петя, а с моей деклинацией... может быть, это профессиональное?
- В какой-то мере. Иначе бы вы занимались чем-то другим. Но вообще-то, отвечая на ваш вопрос, должен сказать, что женщины гораздо больше рабыни рор-шаховских клякс, чем мужчины.
- Петя, - говорю я тут как можно проникновеннее. - Петя, это же прекрасно, что мы рабыни!
- Может быть, - отвечает Петя с полной серьезностью. - Кто-то всегда должен отклоняться, а кто-то все приводить в порядок.
Вежливый стук в дверь; водопроводчик, худой, на тонких ножках.
Водопроводчик пристально смотрит на нашу пустую бутылку. Потом они выходят в коридор.
- Да, - сказал Петя, возвращаясь, - вот вам
личность. Раньше просил рубль - можно и не дать, а попробуйте откажите, если нужно семнадцать копеек или двадцать восемь.
...Казалось, водопроводчик отвлек нас от Роршаха: мы заговорили о теориях личности, о тестах вообще, о правомерности повсеместного их употребления. И все-таки вокруг лежали пятна и снова звали заглянуть в свое Зазеркалье, в то хрупкое, непредсказуемое, что прячется в нас неведомо где.
|
ПОИСК:
|
© NPLIT.RU, 2001-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://nplit.ru/ 'Библиотека юного исследователя'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://nplit.ru/ 'Библиотека юного исследователя'