
Глава четвертая ЧУДЕСНАЯ ТРЕВОГА
СТРЕСС - НЕСЧАСТЬЕ ИЛИ БЛАГО?
Итак, что же такое в конце концов стресс? Полезен он или вреден?
Стресс укорачивает жизнь? Да!
Стресс провоцирует болезнь? Безусловно!
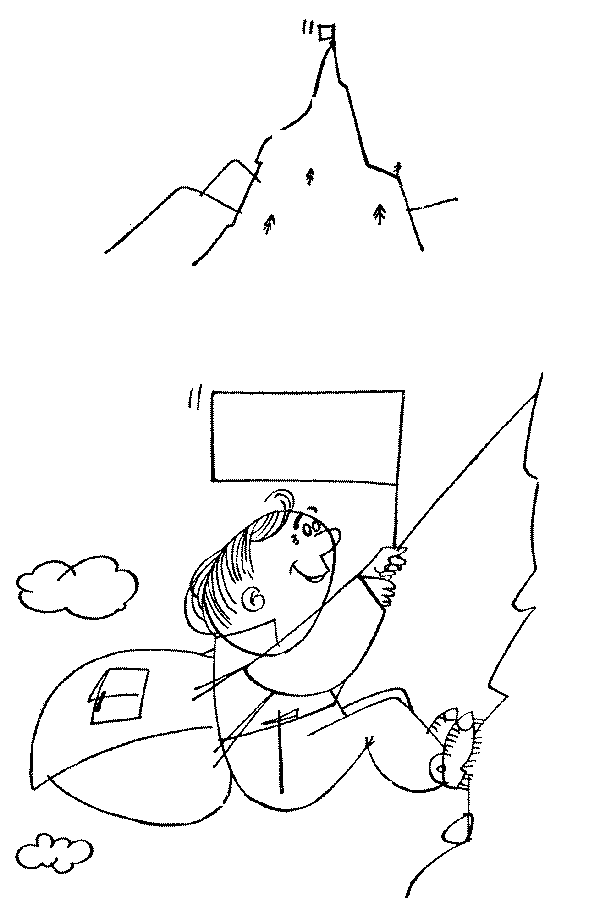
Чудесная тревога
Но вспомним основателя учения о стрессе профессора Ганса Селье. Его поразило, что все болезни вызывают практически сходные психические реакции, А быть может, вопрос парадоксален, но не стоит от него отмахиваться, - есть болезни, которыми надо переболеть?
Почти все мы переболеваем туберкулезом, только не догадываемся об этом: мы преодолеваем его так быстро, что это уже и не болезнь. Но в нас остается знак. Знак победы. Обызвествленная точка в легких - очаг Гона. Эта точка - след той необычной дани, которую мы отдали туберкулезу.
Но вот иная ситуация. Человек, всю жизнь проживший в горах, спускается в долину. Там, в горах, стерильный воздух. Там не возникло у него гоновского очага. И человек заболевает, нет у него в запасе спасительного очага Гона.
А, быть может, как очаги Гона, человеку нужны стрессы? Стрессы, как своего рода прививки.
"Страх - это тоже болезнь, болезнь воображения", - обмолвился однажды Леонид Леонов. Страшно не из окна прыгнуть - страшно разбиться: страшно представить себе, что будет дальше.
"Одна мысль о том, что он боится, подняла его. "Я не могу бояться, - подумал он и медленно слез с лошади между орудиями". Это Лев Толстой о своем любимом герое Андрее Болконском, который всю жизнь учился ничего не бояться.
Можно ли научиться ничего не бояться? Говорят, можно. Верится с трудом, но далее следует традиционное объяснение: человек продолжает бояться, но знает, как вести себя в минуту опасности. Научное объяснение: не бояться - это не представлять себе, что будет потом.
В молодости нам просто дано это свойство - не оглядываться.
И потому вся молодость - это бесстрашие. Но ведь говорят еще, что вся молодость - "это чудесная тревога". Бесстрашие и тревога. Как это сочетается? И почему молодость - это тревога? Что такое вообще тревога? Тревога - это труба, которая поет во мне, когда я перехожу. Перехожу весь я, вся армия моих клеток, мускулов, мыслей. Существует постоянство, равновесие внутренней среды человека. В науке это называется гомеостазис. А может быть, есть нечто подобное и в духовной жизни? Стабильность, равновесие души? Но вот настал момент, я перехожу. От здоровья к болезни, от радости к тоске, от любви к разочарованию в любви. От возраста к возрасту.
Заиграла труба - начался стресс.
Стресс, тревога тела - это когда начинается переход: болезнь, тоска, горе.
Бывает чудесная тревога - тревога молодости. Это когда начинается жизнь. Потому что вся молодость - это переход. Это поход в поисках самого себя. А когда ты в походе и труба трубит, разве ты оглядываешься? Ты смотришь только вперед!
Тревожное бесстрашие. Или бесстрашная тревога... Ты бесстрашен, и тебя тянет к стрессам. Вся молодость - это потребность в стрессах. Психофизиологический дар не оглядываться, щедро отпущенный нам природой. (Ортодоксальный психолог может упрекнуть меня в произвольном употреблении термина стресс. И по-своему он будет прав. Есть узкое его толкование. Есть более широкое. Но как назвать это чувство - стресс или напряженность? Слово стресс просто ближе всего, всего правдоподобнее.)
Потребность в стрессах. Что это значит? Поиск острых ощущений? И это тоже. Жажда самоутверждения? Конечно! Поиск себя - прежде всего!
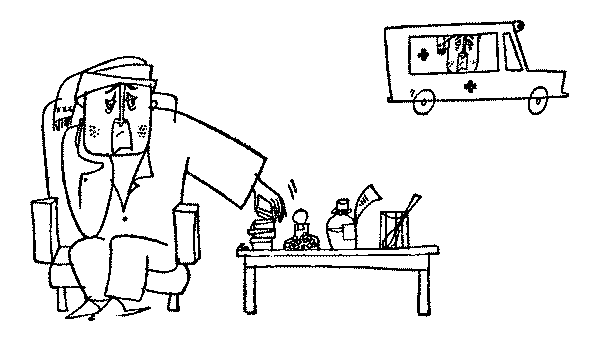
Стресс или напряжённость...
И еще потребность в "избавлении". Избавление здесь можно употребить как строгий психологический термин. Стремление к избавлению, к преодолению каких-то вещей в себе и вокруг себя - признак растущей личности. Мне тесно в той клетке, где протекает жизнь. Кажется, что все заранее предопределено. Даже имя дали без моего желания. "Почему я Сережа? Сергей. Немодное имя. Антоном хочу быть".
А почему, собственно, я обязан хорошо учиться? Все задевает. И отметки, и учителя, и родители. И мелкие неприятности кажутся космическими катастрофами и способны искалечить жизнь. Больше всего хочется избавиться от школы. От ее регулярности, то есть от уроков. Ведь это насилие над личностью - заставлять учить все уроки подряд. Какие-то предметы уже нравятся, какие-то не нравятся, хочется выбрать самому. Чтобы выбрать, надо уже в чем-то самоутвердиться. Преодолеть мир канонов, окружающий со всех сторон. Чтобы преодолеть его и самоутвердиться, хочется сделать нечто необычайное, выпадающее из рамок обычной жизни.
Что там, за этими рамками? Опасность, подвиг. Но в обычной жизни - школьной, где они, подвиги?
Есть еще одна сфера - сильные чувства. Они помогут самоутвердиться в собственных глазах, а следовательно, избавиться.
Два полюса, два пронзительных ощущения, два ожидания. Два стресса. Любовь и смерть.
Совсем не страшно - в шестнадцать лет!
Наступает зрелость, и смерть становится реальностью. И потери близких - первый опыт. И хождение в крематорий - репетиция. Смерть реальна. Но отдалена. Тем больше хочется жить. Начинается страх смерти. Каждый несет его в себе. И молчит об этом. Говорят за нас, безмолвных, великие люди. Так, по дневникам и "книгам на каждый день" мы можем восстановить, как боролся с собой и своими страхами Лев Толстой, как метался он в поисках истины, как с надеждой искал в философии и религии примирения со смертью, как мечтал об одном - спокойно умереть.
А любовь? А любовь в зрелости уже была и прошла. Или есть. И если она есть, то тем страшнее жить, потому что уже знаешь: ее можно потерять безвозвратно. Ведь так много зависит не только от тебя!
Когда мы начинаем задумываться об этом? Поздно! А пока нам даровано великое чудо - сладкий ужас ожидания. Ожидания и готовности к смерти (потому что ты-то знаешь - на самом-то деле именно ты никогда не умрешь). Ожидания любви: любовь создает ощущение бессмертия.
Потому-то, должно быть, молодость - идеал человечества. По нашим представлениям - идеал, в котором человеку надлежит пребывать вечно. Разумом мы еще можем понять: молодость - переход, всякий переход кончается, но поверить в это почти невозможно. Отвыкать приходится всю жизнь. Трудно отвыкнуть от блаженного чувства - все хочу, все могу, все легко! Впереди только счастье. Или смерть!
И герой рассказа Бунина "Митина любовь" стреляется, не в силах перенести первого столкновения с реальной жизнью.
Жизнь ужасна: девушка, которую любит студент Митя, обманула его. А Митя живет в это время в деревне, начинается весна, все в природе чисто и одухотворенно, кругом зарождается новая жизнь, а его, Митина, жизнь кончена, растоптана, уничтожена изменой. И он берет пистолет и нажимает на курок, не особенно соображая, что он делает, лишь бы избавиться от тупой, невыносимой боли.
Разве только в любви тут дело? Рушатся представления о мире, полном добра и справедливости, рушится, как сказал бы социальный психолог, его система ""Ценностей. С этим невозможно примириться. И если мир не таков, каким представлял его себе Митя, то зачем жить в этом ужасном мире...
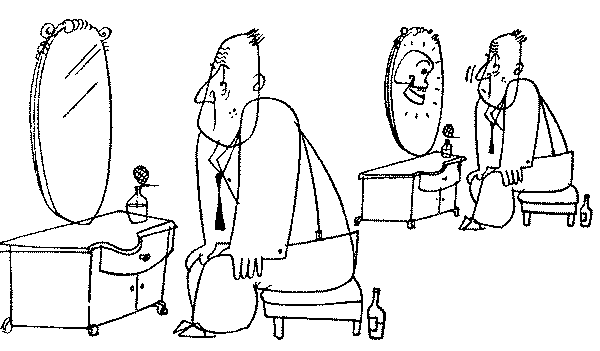
Митина любовь
Значит, вовсе не так уж легко приходят к нам спасительные очаги Гона? Обызвествление кусочка души, дающее возможность жить дальше. Недаром психиатры так внимательны к молодости. Молодость - это грань, хождение по острию. В чудесной тревоге - трагическая подкладка. Прошел, миновал молодость, говорят психиатры, проживет и дальше.
Мир, если он ломает, ломает не человека, а его молодость. И если сломана молодость, сломана жизнь. "Мир ломает каждого, и многие потом только крепче на изломе". Это Хемингуэй, ночные мысли героя его повести "Прощай, оружие". Грустные мысли! Но это и мысли самого автора. Его молодость совпала с первой мировой войной. На стресс, присущий молодости вообще, наложился стресс войны.
Целые поколения прошли через этот стресс. Конечно, каждый из уцелевших в ту войну прошел этот двойной стресс по-своему. Было множество - людей, получивших колоссальный иммунитет к страху, опасности, смерти. Они жили так, что, когда война окончилась, оказалось: в обыденной жизни им просто нет места, нет той точки приложения сил, в которой можно было воплотиться столь же полно, как на войне. Так родилось поколение, которое получило название "потерянного". Естественный переход от молодости к зрелости оказался для этого поколения невозможен. Переход этот воспринимался как надлом, крушение, конец настоящей жизни.
Но если речь зашла о Хемингуэе, стоит напомнить один его разговор. Илья Эренбург вспоминал: Хемингуэй рассказывал, как его упрекали за то, что он всю жизнь пишет о неврастениках. "Я отвечал так, - сказал Хемингуэй, - бык на лугу - это здоровый парень. Бык на арене - неврастеник".
Хемингуэй действительно всю жизнь писал о людях, поставленных в такие обстоятельства, когда они чувствовали себя на арене, не подозревая, что его романы, повести, рассказы найдут широчайшую читательскую аудиторию. Кто мог знать, что так будет: фотография в каждом доме и борода Хемингуэй, и напряженное ожидание до сих пор не опубликованных романов. Автор книг о тех, кто вызван на арену, стал образцом для подражания. И вот уже много лет, как он умер, а ореол не рассеивается, обаяние прожитой им жизни, обаяние его героев не меркнет.
Почему так случилось? Хемингуэй искренне считал, что пишет только для тех, кто вызван на арену, и что людей этих в общем не так-то много. Не потому, что мало вызванных. Ведь есть и такие, кто и на арене (если продолжить метафору Хемингуэя) чувствует себя как на лугу: они слишком мало знают об арене и слишком много о луговой траве.
Но оказалось, что и Хемингуэй, и его первые критики ошибались: множество людей почувствовали себя вызванными. А война окончилась, И выяснилось - их никто не звал. И весь запас стрессоактивности, запас молодости никчемен. Эти люди никому не нужны. И вот трагедия. И вот - "потерянное" поколение.
Мир Хемингуэя - особый мир. Тут слишком много замешано: и послевоенная Европа, и послевоенная Америка, и крушение последних идеалов гуманизма, и неустройство душевное, и кризисная экономическая ситуация.
И вместе с тем в книгах Хемингуэя, в его "вызванных на арену" есть нечто от той психологической ситуации, которая сопровождает каждую войну. Недаром большая слава пришла к писателю уже после второй мировой войны, а ведь писал-то он в основном о первой. Все было иное, и все-таки многое повторялось. Ощущение вызванное, описание того, как приходит к человеку стресс, как волна стресса несет человека и что из всего этого получается, - вот, наверное, что искали и находили в книгах Хемингуэя все новые и новые поколения читателей.
Ощущение вызванности... Их особенно-то и не вызывали, а они вышли. И когда наступает прозрение и выясняется, что был только самообман, возникают грустные ночные мысли: "Мир ломает каждого, и многие потом только крепче на изломе. Но тех, кто не хочет сломиться, он убивает. Ой, убивает самых добрых, и самых нежных, и самых храбрых без разбора. А если
ты ни то, ни другое, ни третье, можешь быть уверен, что и тебя убьют, только без особой спешки".
Герой романа "Прощай, оружие" думает об этом в ночи, глядя в лицо женщины, которую любит, глядя на Кэтрин Баркли. Ей тоже показалось одно время, что ее "вызвали", и она попала на войну.
...Ощущение вызванности. А что бывает, когда субъективное ощущение вызванности) совпадает с исторической правдой?
В начале фильма лица героини не видно, видны только прямые плечи, спина в стандартном бостоновом костюме, угловатые, неловкие движения женской фигуры, не привыкшей к тому, что на ней что-то примеряют. Мы телесно чувствуем, как тягостна этой женщине примерка: новый костюм - это докука, от которой следует поскорее избавиться.
А потом появляется лицо, немолодое, некрасивое, скуластое, костлявое какое-то. И неинтересные маленькие глазки. Но в глазах этих что-то задевает, в них есть невысказанность, в них прячется нечто, не имеющее отношения к происходящему на экране. А на экране живет и раздражающе активно действует женщина, директор ремесленного училища, депутат, член разных комиссий и прочая. Она резка и бескомпромиссна. Она хочет как лучше, а получается плохо. Она занята только работой, и единственная дочь боится ее, не понимает.
Какая пружина сидит в этой увядающей женщине и заставляет ее жить вот так - безрадостно, убежденно, только для других?
И вдруг мы видим ее портрет в местном краеведческом музее. Она совсем молоденькая летчица, смеется, рядом парень в военной форме. Он смеется тоже. Эта женщина, оказывается, героиня, гордость города. Ей пишут друзья военных лет и помнят ее той, с фотографии, летающей, любящей того парня.
Всего этого давно нет. Он не вернулся с войны, а она уцелела и стала такой вот - в костюме с накладными плечами, деловой, всезнающей, вызывающей неприязнь у тех, кому она благотворит.
Но откуда в зале после конца фильма "Крылья" с Майей Булгаковой это напряженное молчание? Почему в картине такой странный конец? Эта малопривлекательная женщина приходит на аэродром, садится маленький самолет времен войны, давно превращенный в тренировочный, и улетает. Сначала она летит неуверенно, потом поднимается все выше, выше... Вернется ли она обратно? Приземлится или разобьется, еще раз испытав счастье преодоления пространства, воскрешая в душе давно погребенное, но незабываемое, оказывается, ни на одну минуту?
Этот фильм трудно пересказывать. В пересказе в нем появляется банальность. Картина же сделана сухо и точно. И прекрасна в нем Майя Булгакова, до предела беспощадная к своей героине.
И мы, зрители, к концу фильма отдаем ей свое сердце и пробуем ее понять. Мы даже плачем: мы запоздало начинаем понимать не только ее судьбу, а судьбу близких нам людей, прошедших войну; мы начинаем осознавать, что есть в их жизни измерение, куда нам не дано заглянуть. Это второе измерение объясняет нынешнюю, не совсем понятную нам жизнь наших
близких.
...Миллионы людей не вернулись с войны совсем. Миллионы вернувшихся остались там на всю жизнь. Они не обязательно сломались, как ломались герои Хемингуэя; они просто, не осознавая того, остались жить там, в том времени, самом насыщенном времени своей
жизни.
И благополучный коммерсант из Латинской Америки, бывший заключенный, в растерянности бродит по Бухенвальду: он ничего не узнает, лагерь превратился в музей. И вдруг радостный крик: "Вот здесь был наш барак, а здесь была виселица!" И он счастливо смеется, как человек, вернувшийся в край своей молодости. "Ведь это были лучшие годы моей жизни", - обращается он к окружающим.
Лучшие годы? В концлагере? А вполне ли нормален этот благополучный коммерсант? Грустный психологический парадокс, но человек этот нормален. Вполне. Ведь тогда, в Бухенвальде, был ад, была смерть, был страх. Но еще была молодость, еще была солидарность, была та натянутость всех струн души, которая позволила ему выжить. А что было потом? Потом было скучно. Потом он наживал деньги, потом все было как у всех. Потом ничего не было...
Я немного отвлекусь в сторону. Известный советский психолог Петр Яковлевич Гальперин привел однажды такой пример. Пример этот не про войну, совсем про другое.
"Я смотрел фильм "Леди Гамильтон" - был такой старый фильм. Там нищая старуха рассказывает историю своей жизни: любовь, величие, смерть возлюбленного.
"А что потом? - спрашивают ее. "А потом ничего не было".
Хотя потом была длинная жизнь. Реплику леди Гамильтон, - пишет Гальперин, - можно объяснить, пожалуй, в терминах психологии. Психологи различают понятия - действие и поступок. Действуем мы бесконечно: обуваемся, садимся в автобус, обедаем. Поступок - изменение судьбы; возвеличение или гибель наших ценностей, переосмысление жизненно значимого..."
Война - это поступки, все "экстремальные", то есть чрезвычайные, ситуации в жизни человека - тоже поступки. Остальное только действия.
...Так что же, все прошедшие войну остались на войне? К счастью, все люди разные. У всех разные счеты со своей молодостью.
Латиноамериканец, ощутивший себя счастливым в Бухенвальде, после войны только наживал деньги. Скучное, бессмысленное занятие. Цель - продержаться, выжить, атмосфера братства - все это осталось в далеком прошлом. Впереди цели нет. И потому лучшие годы там, в прошлом. Латиноамериканец - из числа (если тут возможны какие-то градации) удачно оставшихся: он не особенно печалится о том, что "потом ничего не было".
За разные вещи люди боролись в последнюю войну. К разным вещам и целям вернулись. Об этом не следует забывать.
...Кроме оставшихся, есть еще в каждой войне неоставшиеся. Есть, например, победители. "Уверенность в победе, усыпляет страдание" - так писали в старинных, книгах. Эта старомодно-изысканная фраза всего лишь иллюстрация к проверенному статистикой факту смертность от ран в армии побеждающей гораздо ниже, чем в армии побеждаемой. Смертность от ран телесных, душевных, всяких. И все равно у тех и у других - стресс. Его нелегко пережить. Даже победителю. Победитель - это совсем несладко. Победитель берет на свои плечи все то, что разрушила война. Поколение победителей восстанавливало нашу разоренную страну, и это была высокая цель.
Так кто же героиня фильма "Крылья"? "Оставшаяся", если следовать нашей терминологии, или победительница? И почему она не сломалась? В ней много всего, как во всяком человеческом характере. А не сломалась она, наверное, потому, что ее действительно звали. И она это знала.
...Молодых поэтов, погибших в Отечественную войну - Павла Когана, Николая Отраду, Николая Майорова, Михаила Кульчицкого, тоже звали. Их позвало время. И они услышали его зов.
Уже позади был Халхин-Гол, уже была финская война, много чего уже было трудного, малопонятного. Уже были все психологические предпосылки для возникновения стресса. И он пришел. К избранным. К поэтам. Война еще не началась, но все уже было.
Уже опять к границам сизым составы тайные идут, и коммунизм опять так близок - как в девятнадцатом году.
Случаен ли этот год - девятнадцатый? Да нет.
В девятнадцатом году за коммунизм гибли. Скоро наступит столь же роковое время. Поколение Кульчицкого готово к смерти. По логике молодости - к бессмертию. Одно из стихотворений Михаила Кульчицкого так и называется - "Бессмертие".
На двадцать лет я младше века,
Но он увидит смерть мою,
Захода горестные веки
Смежив. И я о нем пою.
Они были готовы к гибели, твердо зная, что их страна победит.
Бывает даже у коней
В бою предчувствие победы...
За два года до 22 июня 1941 года они были в том душевном состоянии, которое у других началось только тогда, когда разразилась война. В чем же психологическая разгадка их удивительной судьбы: раннего расцвета таланта, осознания своей
миссии.
...Мое поколение- это пулю прими и рухни. Если соли не хватит - хлеб намочи потом, Если марли не хватит - портянкой замотай тухлой.
Так все оно и случилось: приняли пулю и рухнули. Не хватало хлеба. Не хватало марли. Но все это было уже без них. Они стали спичками, порохом.
Во всех воспоминаниях друзей поэтов (а в последние годы вышло несколько сборников) много добрых и горестных слов, во всех воспоминаниях определения: "Они были глашатаями того предвоенного поколения, которое приходило к поре начинающейся внутренней зрелости в конце 30-х годов".
"Они поняли свое поколение как людей, которым предстоит принять на плечи всю огромную тяжесть будущей войны. Эта мысль была для них магистральна".
"Тщетны попытки определить поколение по одному признаку. Но если кто-нибудь все же вознамерится, пусть знает: мы поколение, которому с первых шагов суждено было терять друзей..."
Во всех воспоминаниях потаенное удивление: была в этих юношах некая осененность, отмеченность, которые трудно передаются словами о глашатаях, поколении, потерях, хотя все эти слова - правда. Но в этой правде нет объяснения. Не о социальном объяснении, разумеется, идет речь - о чисто психологическом.
Конечно, объяснение сложно и многозначно. Тут надо вспомнить идеалы русской интеллигенции начала века, и поэзию первых послереволюционных лет - это духовная подпочва, которая их питала. Тут надо вспомнить ощущение "осажденной крепости", в которой жил. Советский Союз все эти десятилетия. Стихи, написанные в ощущении осажденной крепости, стихи, написанные людьми, убежденными в святости того, что предстоит защищать, совсем особые стихи. И при этом молодость. И при этом накал ожидания, который ей дарован.
Они загорелись от ожидания. От святого ожидания.
Они были слишком талантливы, чтобы рано или поздно не воплотиться. Но почему так рано?
Это ожидание сформировало в них так рано поэтов, ожидание настолько острое, что они знали: они не удержатся и в будущей войне погибнут первыми.
Спички всегда сгорают первыми.
|
ПОИСК:
|
© NPLIT.RU, 2001-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://nplit.ru/ 'Библиотека юного исследователя'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://nplit.ru/ 'Библиотека юного исследователя'