
Методология риска
Ищу абсурд
Заявим тему еще круче. Логика жизни поворачивает так, что, если нечто народилось, оно неумолимо пойдет к развязке. Впустив в мир строгой научности фантазирование, уже не остановить его движения. И коли исследователю позволена фантазия, с той же изначальностью он способен взять в услужение фикцию, нелепости, абсурд, опираться в работе над истиной на заблуждения и ошибки. Словом, он готов вовлечь в дело не только смутное, но и мутное.
Верно, имеется особенность. Положим, фантазия может обернуться крахом, но это по крайней мере не влечет вреда. Иной исход, когда в рассуждении показывается ересь. Цена оплошности здесь много выше, как в случае, когда курьез возводится в научный прогноз, так и в том, когда истинный прогноз объявляется курьезом. Такие оплошности одинаково успешно вводят науку в тупики.
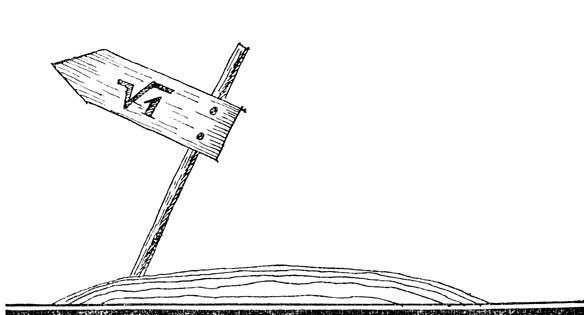
Ищу абсурд
История познаний свидетельствует, что переход к новым рубежам не отличается плавностью вытеснения одряхлевших постулатов. Привычнее картина, когда предлагаемое взамен вызывает бунт, тем более внушительный, чем непримиримее новое, чем оно глубже вспахивает традицию. Нужна отвага, нужна раскованная и рискованная речь, несущая вызов прежнему миру. "Удивить, - значит, победить" - так воевал А. Суворов. Годится и для науки: взять неожиданный, нелепый (в границах старого развития) ход, удивить и ошеломить - вот приемы, с которыми подручнее овладевать пространством в борьбе за истину.
Народившиеся теории часто принимаются (и чем они крупнее, тем чаще) не просто бесполезными, но опасными, поскольку размывают устои рациональности. Лишь позднее, когда страсти войдут в берега, к абсурду или ереси начинают прислушиваться и даже признавать их, пока новые вожди не оповестят о новых абсурдах. "Истина рождается как ересь, а умирает как заблуждение" (Гегель).
Подкупает история точного знания. Тем подкупает, что со временем четко выводит оценки неоспоримости заслуг прежних "нелепостей" и учит уважать бесстрашие идущих, наказывая (хотя и поздним часом) их гонителей.
Обратимся еще раз к математике. В ее природе есть все для процветания абстрактных форм и далеких от наглядности строений. Это и вызывает у самих же математиков более осторожного склада, а то и завистливых, реакцию отторжения нового. Вспомним историю чисел. По существу, каждый их новый вид встречал твердое сопротивление, поскольку всякий раз "выпадал" из ряда, образующего согласованное здание анализа.
Трудная доля выпала, к примеру, иррациональным величинам. Уже само название, которое им сообщили от рождения, обещало мало хорошего: иррациональное,- значит, лежащее за чертой осмысленного. Ведь их происхождение отмечено знакомством с несоизмеримостью отрезков, то есть невозможностью выразить в рациональных (целых или дробных) числах длину одного отрезка, если за единицу принять другой.
В подобных отношениях находятся, в частности, сторона и диагональ квадрата. Каждая из них, будучи взята отдельно, безропотно поддается измерению, но их никак не склонить к тому, чтобы измерять себя друг через друга, скажем, определять длину диагонали, взяв мерой сторону того же квадрата. Сторона не желает укладываться на диагонали определенное (хотя бы и дробное) число раз. Всегда окажется остаток, который также не готов помещаться на отрезке целиком.
А что же греки? Обескураженные столь непонятным упорством, они лишили те величины права называться числами, заявив их длинами. То есть перевели на язык геометрии и назвали иррациональными. Но не только греки. Настороженность сохранялась столетиями. У Н. Лобачевского эти числа проходили как "искусственные", а учение о них он находил "сухим" и лишним для аналитики и ее приложений.
Еще драматичнее судьба комплексных величин. Появившись в XVI веке, целых три столетия не могли выйти в свет: считалось, что никакого отношения к реальным вещам они не имеют. А считалось так оттого, что они включают в себя так называемую мнимую единицу (число, квадрат которого равен - 1). Даже великий Г. Лейбниц, всегда открытый новому слову в науке, даже он окрестил их "уродами", несущими "двойственную сущность, которая лежит почти между бытием и небытием". И Л. Эйлер, тоже чуткий к свежим идеям, полагал, будто величины эти "по своей природе невозможны, ибо существуют только в воображении". За ними так и тянулась слава мнимых в отличие от остальных, почитаемых действительными. Еще К. Гаусса, одно время увлекшегося комплексными значениями, стали подозревать в патологической наклонности, а уж Д. Кардано, когда он вводил их, меньше чем душевнобольным и не числили.
Отношение сменилось лишь в середине XIX века, когда нашли способ геометрического представления комплексных чисел как места определенных точек на плоскости и тем самым перебросили мосты к уже привычным понятиям. Одним из тех, кто успешно поработал на этом поле, как раз и был К. Гаусс. Наконец, числа нашли дорогу и к практике. В начале нашего столетия русские ученые Н. Жуковский и С. Чаплыгин рассчитали с их участием форму, которую стоит придать крылу самолета, чтобы он полетел. Так распалась "мнимость" этих вовсе и не мнимых, а вполне достойных быть среди других чисел величин.
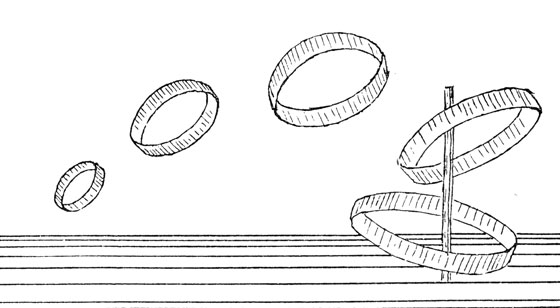
Ищу абсурд
Вынесенные из истории математики ситуации уподобляют перипетиям эволюции живого, когда принимаемое сегодня за уродство завтра дает начало линиям тонкого приспособления к среде. Таковы редкие, но богатые результатами мутации, те внезапные взрывы наследственных признаков, которые могут проложить дорогу новой эволюционной ветви, более широко подготовленной освоить для жизни не занятое еще никаким видом природное пространство либо приспособиться к резко меняющимся условиям обитания.
Концептуальные "мутации - уродства" хорошо просматриваются и в физике. В свои дни ученые, двигавшие квантовую концепцию, тоже ведь прошли сквозь свою "иррациональность". Именно так, а не иначе обозначил Н. Бор гипотезу квантов М. Планка. Те же определения выбрали М. Борн, говоря о квантовом постулате, а В. Гейзенберг - о квантовых скачках, и даже сильнее - о теории квантования в целом. Не удержался и де Бройль привлечь иррациональное в поисках пути перехода от классического представления о мире к новому мировоззрению. Так дружно физики защищали прежнюю науку перед лицом нового мышления, несущего, как им казалось, крах рациональности.
Методология еще с давних лет выработала отличное правило, запрещающее умножать сущности сверх необходимого (о нем мы будем далее говорить). Но вот вопрос: где край того необходимого, сверх чего "не умножать"? Что именно подлежит удалению, какие включения становятся лишними? Как раз подобные, казалось бы, искусственные нововведения часто и выводили ученую мысль из безвыходных состояний.
Поэтому такие придуманные и надуманные сущности не должны быть запрещены вообще. В каких-то линиях творческого метания ученый не только может, но и обязан допустить (по крайней мере, испытать) фикцию, то есть понятие, не имеющее, как утверждают философы, природных "референтов", то есть объектов вне нас, которые эти фикции обозначают. Но таких объектов мы не фиксируем не оттого, что они вообще не существуют, что природа ленива или не способна их породить, а потому, что наука еще не научилась их распознавать, не умеет как следует ее спрашивать. Их допущение видится странным, граничащим с мистикой, иррациональным. Между тем странно не наше понятие, а то, что за ним идет, та реальность, к которой оно пытается привлечь наш взгляд. Вещие слова: "Ум человеческий открыл много диковинного в природе и откроет еще больше, увеличивая свою власть над ней..." Так В. И. Ленин представлял себе развертывание познавательных могуществ человека. Просто надо быть готовым к неожиданностям, к тому, что в любой момент природа способна предъявить невероятное.
Случалось, что, прежде, чем обнаружить некие сущности в эксперименте, естествоиспытатель отыскивал их в своей мысли, в своей голове, принимая в качестве идеального, которому нет еще вещественного соответствия, и надеясь, что со временем оно найдется. Так, в пору интенсивных построений теории элементарных частиц получили виды на реальность немало таких образований, которые, по всем правилам "строгой мысли", подлежали изъятию из научного оборота. Но странное дело. Едва исполнилось четыре года призрачному существованию позитрона (антиэлектрона), как он был обнаружен в натуре. Та же судьба, но с разрывом в 12 лет, у одного из π-мезонов и в 25 лет - у нейтрино. Спросить их, а где они "жили" в прежние дни, почему не объявились?
Как видим, допущение ирреальности имеет смысл, оборачиваясь неуклонной теоретической, а вослед тому и практической пользой. Польза та, что, допуская такие умозрительные объекты, науке удается выстроить более или менее законченное теоретическое здание, в котором можно работать, хотя бы и запуская в дело откровенные фикции.
Опыт поколений оправдывает тех, кто в поворотные дни научного штурма решительно вводил не наблюдаемые доселе образования, допуская в теорию призраки, нелепости. Ведь если не грешить этим, придешь ли к чему-то стоящему?
Однажды, беседуя о судьбах познания, В. Гейзенберг, верный позитивистской норме устройства науки, заявил, мол, ученый вправе обсуждать только то, что поддается эмпирическому испытанию. А. Эйнштейн резко воспротивился и в ответ на это объявил: "Теория и решит, что именно можно наблюдать". Иными словами, не факты ведут теоретическое описание, а, наоборот, оно предшествует факту и предвосхищает его.
Конечно, допуская вымышленные сущности, ученый явно рискует, зато протягивает логическую ниточку в будущее. Тут есть свои резоны: опровергается предубеждение, будто теория надежна только тогда, когда она идет след в след наблюдательным фактам, а если она не укладывается в прежние стереотипы мышления, то назревает теоретический переворот. Стало ясно, что хорошую теорию можно создать, и не имея полного списка реальных "действующих лиц". Часто она зарождается из противоречий в наличном теоретическом багаже или выступает естественным развертыванием логики предшествующих идей. К примеру, предложения теории относительности были составлены независимо от показаний опыта Майкельсона - Морли о постоянстве скорости света. Позднее, когда А. Эйнштейна допрашивали, знал ли он в пору создания теории об этом эксперименте, ученый ответил, что не помнит, по-видимому, не знал. То есть это не имело для него значения.
Идея относительности возникла логически, как следствие из других идей, а не из эмпирии. Смущала его одна общепризнанная самоочевидность, отнюдь не самоочевидная, которая упиралась в понятие одновременности. Однажды А. Эйнштейн прозрел: как можно говорить об одновременности, например, двух газовых вспышек на Земле и на Солнце, если наблюдатель находится близ Земли, а сигнал из окрестностей Солнца идет к нам восемь минут? Чтобы стать для земного наблюдателя одновременными, они должны произойти в разное время.
|
ПОИСК:
|
© NPLIT.RU, 2001-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://nplit.ru/ 'Библиотека юного исследователя'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://nplit.ru/ 'Библиотека юного исследователя'