
"Научить тому, чего не понимаю сам"
Обратимся к тем событиям в жизни науки, когда именно наличие неопределенности выводило поисковую активность к постановке и решению проблем, крупно влияющих на прогресс научной мысли.
Влияние неопределенности, надо сказать, неоднозначно.
В иных местах размытость содержания погружала исследователя в отчаяние. Характерна, например, реакция голландского физика Г. Лоренца, когда в 1924 году в самый разгар квантово-механических страданий он записал: "Я потерял уверенность, что моя научная работа вела к объективной истине, и я не знаю, зачем жил; жалею только, что я не умер пять лет тому назад, когда все еще представлялось ясным".
Близкое смятение чувств испытали в свое время Э. Шредингер и М. Планк при внедрении в физическую картину природы квантовых представлений, к формированию которых они имели прямое отношение. Эту сюжетную линию мы еще продолжим.
Однако, как показывает история познания, неопределенное и смутное, врываясь в теорию, не ведут ее к гибели. Скорее наоборот. Они полезны ей, о чем и свидетельствует эволюция науки, которая всегда выходила из полосы смут обновленной, готовой к новой жизни, прозревшей. Но сначала покажем, что работать в режиме неопределенности можно, да не просто работать, а еще и получать результаты.
Только что был отмечен Г. Лоренц, выбитый из научной колеи смятенным состоянием дел, которое царило в квантово-механическом понятийном аппарате. Однако сам же Лоренц и показал, как не надо складывать оружия перед неочевидностью. Правда, то произошло раньше и на других плацдармах.
...Ознакомившись с уравнениями электродинамики К. Максвелла, Г. Лоренц в смущении обратился к переводчику за разъяснениями физического смысла теории. Переводчик же объявил: "Никакого физического смысла эти уравнения не имеют, понять их нельзя, их следует демонстрировать как чисто математическую абстракцию". Тем не менее Г. Лоренц все же применил результаты Максвелла к движущимся телам и получил свои знаменитые преобразования, в свою очередь, использованные затем А. Эйнштейном. Как известно, Г. Лоренц и тут не понял и оттого вначале "опротестовал" действия творца теории относительности. Но это уже другой сюжет. Сейчас важно отметить, что хотя у Лоренца не было ясности в истолковании теории Максвелла, однако он работал с нею, и, как видим, небезрезультатно.
Похожие отношения с теми же максвелловскими уравнениями и у Л. Больцмана. По его признанию, всякий раз, начиная читать студентам электродинамику, он предварял курс эпиграфом из Гёте:
Я должен пот тяжелый лить, Чтоб научить тому, чего не понимаю сам.
О том, что можно успешно вести науку, не имея отчетливости, говорят и другие. К примеру, М. Борн писал: "Мой метод работы состоит в том, что я стремился высказать то, чего, в сущности, высказать еще не могу, ибо пока не понимаю сам". Не менее рельефно и заявление Ф. Крика: "В процессе научного творчества мы сами не знаем, что мы делаем". Пожалуй, еще одно свидетельство, слова которого только что прозвучали. Конечно, В. Гёте - прежде всего поэт. Однако он также и виновник заметных сдвигов в естествознании. Настолько заметных, что, не будь известен как большой художник, все равно вошел бы в историю культуры незаурядным естествоиспытателем. (Открыл межчелюстную кость у человека, гребенчатую форму облаков, заложил основы психофизиологической теории света, стал у истоков морфологии; за ним и другие успехи.) В. Гёте утверждал: "Мой принцип при исследовании природы - удерживать достоверное и следить за недостоверным".
Представляется, дело не просто в том, что смутные состояния на путях познания неизбежны. Скорее, ситуация такова, что подобные состояния содействуют поиску, обеспечивая режим благоприятствования ищущему уму. Примечательно одно рассуждение Д. Гильберта. Как-то он очень заинтриговал слушателей, поставив вопрос, знают ли они, почему именно А. Эйнштейн принес самые оригинальные и глубокие идеи о пространстве и времени. "Любой мальчик на улицах Геттингена, - заявил он, - понимает в четырехмерной геометрии больше, чем Эйнштейн". Тем не менее именно Эйнштейн, а не "мальчики" (сиречь, математики) сделал эту работу.
В чем же преимущества, которые несет науке неопределенность?
Прежде всего создаются подходящие условия для научного поиска. Состояние неопределенности сообщает мысли неизбежную вариабельность, подстрекая к раскованности. Освобожденный от заведомо предначертанных ходов и регламентов, ум обретает свободу выбора тем, возможность фантазии и риска, благодаря чему становится доступней прорыв к новым пластам знания.
Обратим в связи с этим внимание на оценки роли строгости в развитии теорий. Строгость вошла обязательным критерием надежности научных построений. И вместе с тем безусловное и неукоснительное следование этому требованию, усилия по очищению от любых нестрогих образований способны в известные моменты поиска ограничить, пресечь творческий взлет исследователя.
П. Капица, например, считал, что острое логическое мышление порой мешает ученому, поскольку окончательная ясность может закрыть выходы к новым проблемам и нестандартным поворотам ищущей мысли. Прислушаемся также к замечанию известного советского физика, академика Л. Мандельштама: "Если бы науку с самого начала развивали такие строгие и тонкие умы, какими обладают некоторые современные математики, которых я очень уважаю, точность не позволила бы двигаться вперед".
Атмосфера неопределенности, сопровождаемая отсутствием однозначных теоретических установок, создает неплохие виды на будущее, поскольку остается шанс испытать некие еще не испытанные пути, раскинуть веер возможностей. Э. Резерфорд однажды заметил, что они делали больше, чем понимали. То есть он сознательно вел коллег дорогой, на которой нет ясности.
Но дело не только в том, что неопределенные состояния выступают подходящим условием для работы, побуждая к раздумьям, помогая наладить поисковую обстановку. Очевидно, неопределенность влияет и на выбор познавательных средств, предопределяя методы, набор образных представлений, весь арсенал орудий, привлекаемых исследователем для достижения успеха, а также сам путь исканий, характер действований.
Иными словами, ученый вынужден использовать столь же размытые ходы, недостаточно строгие категории, "размазанные" понятия и образы. Стремление уже в зародышевой стадии поиска добиться четкости понятий может оттеснить исследователя к испытанным решениям и обернуться бессилием пробиться к новым рубежам. Так, едва успев народиться, никнет, может быть, интересная идея.
Вот мнение П. Капицы: "На таких начальных этапах развития науки точность и пунктуальность, присущая профессионалам, может скорее мешать выдвижению смелых предположений". Этот вывод, как полагаем, служит хорошим аргументом в пользу неопределенности, когда дело касается первых шагов в решении познавательных задач. А не об этом ли раздумывал и Ф. Тютчев, обронив тот достаточно приблизительный афоризм: "Мысль изреченная есть ложь". Рискуем переложить это место таким образом.
Поскольку новое знание решительно меняет представления о предмете, оно не может быть выражено прежними понятиями потому, что они неизбежно увлекут в старое русло. Однако и новых, приличествующих ситуации слов еще не найдено. Остается одно: держать до поры явившуюся догадку в смутной форме непроясненного знания (чаще всего оно дано образами, тоже размытыми, зыбкими) и вести изучение средствами, которые хотя и недостаточно определенны, либо даже вовсе неопределенны, зато способны порой подсказать верный ход. Всякая попытка тут же одеть едва вспыхнувшее решение в четкие смыслы невольно понуждает вернуться к прежним категориям, то есть сойти на уже проложенные познанием магистрали и... благополучно загубить дело.
Чтобы не спугнуть птицу открытия, лучше дать мыслям "побродить", повариться в исходной неопределенности, пока они не поднимутся до нужной отметки, встав на твердую землю собственных понятий. Значит, не стоит и пытаться сразу же все прояснить, чего бы то ни стоило отыскать слова и названия. Пусть обретенное диво побудет в одеждах неявной выраженности. А уж потом найдутся подходящие обозначения и символы. Поистине, как говорит опять же Ф. Тютчев,
Чем продолжительней молчание, Тем удивительнее речь.
Возьмем историю. Описывая развитие математики на достаточно длительной дистанции, измеряемой XVI-XVIII столетиями, американские ученые Р. Курант и Г. Роббинс отмечают, что хотя математическое доказательство должно проводиться строго, однако, осуществляя его, ученые использовали в ту пору (да и не только в ту) средства отнюдь не строгие. Более того, "основные понятия... определялись весьма туманно и даже с элементами мистики, например, бесконечно малые, мнимые и иррациональные числа и т. п.".
Много неясного несли с собой теории неэвклидовых пространств. Н. Лобачевский, например, не случайно называл свою геометрию "воображаемой".
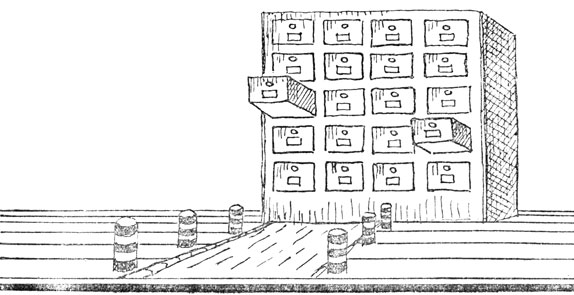
'Научить тому, чего не понимаю сам'
И уже в наши дни утверждается логико-математическая "теория расплывчатости", в основу которой вписаны такие неопределенности, как "нечеткое понятие", "нечеткие множества", "нечеткие операции". Все эти странные с точки зрения привычной математики и логики образования начал разрабатывать современный французский ученый А. Заде. Его исходная установка покоится на том, что чем глубже задача, тем неопределеннее ее решение. Под эту установку и вводятся нестрогие методы, поскольку подобного рода ситуации только и можно одолевать посредством указанных приемов.
В случае жестких (традиционных) множеств принадлежность (или непринадлежность) к ним объектов определяется однозначно: "да" или "нет". Нечеткие же множества предполагают подобную принадлежность объектов лишь с известной долей определенности: "с какой степенью необходимости принадлежит", "вероятно, принадлежит", "может быть, принадлежит" и т. п. Здесь допустимы такие высказывания, как, например, "этот человек, очевидно, болен", "возможно, этот остров обитаем", которые с точки зрения классической теории множеств недопустимы.
Этим открываются возможности исследования областей действительности, которые ранее были недоступны логике. Вообще, полагает академик А. Колмогоров, наметилась перспектива "уничтожения расхождений между "строгими" и "нестрогими" методами математических рассуждений". На этом пути можно, в частности, преодолеть или, по крайней мере, сгладить действие "принципа несовместимости", По которому сложность предмета рассогласована с точностью его количественных отображений, а глубина изучения - с определенностью результата.
Отметим еще одну "заслугу" фактора неопределенности. Если говорить о готовой, построенной теории, то, конечно, она обретает четкость. Однако и здесь не всегда и не во всех деталях можно избежать непонятных мест, о чем мы и вели разговор в начале настоящего раздела. Сейчас хотели бы обратить внимание на следующее.
Наличие в теории неопределенностей, смутных и темных пунктов не грозит катастрофой. Наоборот, в этом просматривается даже известное преимущество, которое обеспечивает жизнестойкость теории. Неопределенность придает ей известную эластичность, способность быть готовой к освоению вновь появляющихся фактов и процессов. Семантическая рыхлость теории есть гарантия выживаемости, знак того, что она не разрушится в случае открытия новых явлений, несущих некоторые "неприятные" для ее установок данные.
Допуская, благодаря размытости понятий и положений, гибкость, теория способна впускать новые, не предусмотренные заранее результаты опыта и тем самым сохранять себя. В подобной обстановке чрезвычайная строгость оборачивается догматизмом, нетерпимостью и способна вызывать "интеллектуальные судороги".
Подытожим. Движение в неопределенности всегда чревато неоднозначностью результатов. Любое рассуждение здесь умозрительно, окутано не просто догадками, но сетью домыслов и вымыслов, потому что по-крупному свежая идея появиться в отчетливой печати, без предварительных раздумий, страданий и сомнений не может. "Несчастны люди, которым все ясно",- заметил однажды Л. Пастер, пуская стрелы в тех самоуверенных мужей, которые не дают себе труда выйти на всю глубину проблемной обстановки и потому задерживаются на внешней линии событий.
Австрийский философ недавней поры Л. Витгенштейн поделился некогда мыслью, будто "все, что может быть сказано, может быть сказано ясно, а о чем невозможно говорить, о том следует молчать". Конечно, иных словоохотливых ораторов из ученой среды неплохо и ограничить. Но речь не про них. Подобных деятелей быстро узнают и не тратят на них внимания. Речь о другом - о самом предмете высказываний. Полагают возможным окружающий мир поделить на то, о чем можно рассуждать со всей ясностью, и на то, о чем надобно придержать речь.
А надобно ли? Ведь сия инициатива склоняет к бездействию. Столкнувшись с упорством фактов, не укладывающихся в четкие схемы, исследователь из боязни показаться смутным обречен томиться в кругу очевидностей, увы, израсходовав свои силы и оттого оказавшись бесплодным. Если вооружиться такой философией, нам только и достанется, что не размыкать уста либо говорить прописными высказываниями.
Таким образом, выкорчевав все неясное, расплывчатое, наука станет рассуждать лишь общими фразами, с помощью которых не продвинуться вдаль. Точная и определенная позиция - не лучшая позиция в стратегии научного поиска. Здесь хорошо укладывается аргументом поэтическая лесенка из В. Маяковского:
Тот,
кто постоянно
ясен,
Тот,
по-моему,
просто глуп.
Теперь оставив позади общетеоретические соображения и доказательства, рассмотрим неопределенность в работе на конкретных участках научного поиска, когда неопределенность послужила основой для раскованных шагов ищущей мысли. Одной из форм такого прорыва в будущее науки являются гипотезы. С них начнем.
|
ПОИСК:
|
© NPLIT.RU, 2001-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://nplit.ru/ 'Библиотека юного исследователя'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://nplit.ru/ 'Библиотека юного исследователя'